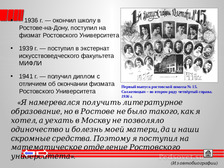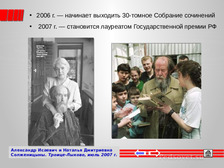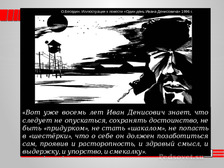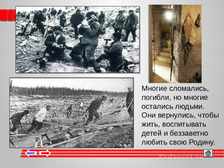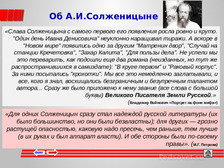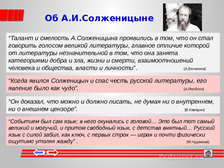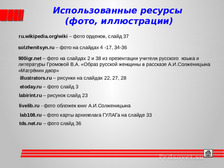А.
И. Солженицын «Крохотки» (1958-1960)
ДЫХАНИЕ
Ночью
был дождик, и сейчас переходят по небу
тучи, изредка брызнет слегка.
Я
стою под яблоней отцветающей — и дышу.
Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают
после дождя — и нет названия тому
сладкому духу, который напаивает воздух.
Я его втягиваю всеми лёгкими, ощущаю
аромат всею грудью, дышу, дышу, то с
открытыми глазами, то с закрытыми — не
знаю, как лучше.
Вот,
пожалуй, та воля — та единственная, но
самая дорогая воля, которой лишает нас
тюрьма: дышать так, дышать здесь. Никакая
еда на земле, никакое вино, ни даже
поцелуй женщины не слаще мне этого
воздуха, этого воздуха, напоённого
цветением, сыростью, свежестью.
Пусть
это — только крохотный садик, сжатый
звериными клетками пятиэтажных домов.
Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов,
завывание радиол, бубны громкоговорителей.
Пока можно ещё дышать после дождя под
яблоней — можно ещё и пожить!
ШАРИК
Во
дворе у нас один мальчик держит пёсика
Шарика на цепи, — кутёнком его посадил,
с детства.
Понёс
я ему однажды куриные кости, ещё тёплые,
пахучие, а тут как раз мальчик спустил
беднягу побегать по двору. Снег во дворе
пушистый, обильный. Шарик мечется
прыжками, как заяц, то на задние ноги,
то на передние, из угла в угол двора, из
угла в угол, и морда в снегу.
Подбежал
ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости
понюхал — и прочь опять, брюхом по снегу!
Не
надо мне, мол, ваших костей, — дайте
только свободу!..
КОСТЁР
И МУРАВЬИ
Я
бросил в костёр гнилое брёвнышко,
недосмотрел, что изнутри оно густо
населено муравьями.
Затрещало
бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи
забегали, забегали поверху и корёжились,
сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко
и откатил его на край. Теперь муравьи
многие спасались — бежали на песок, на
сосновые иглы. Но странно: они не убегали
от костра. Едва преодолев свой ужас, они
заворачивали, кружились и — какая-то
сила влекла их назад, к покинутой родине!
— и были многие такие, кто опять взбегали
на горящее брёвнышко, метались по нему
и погибали там...
А.
И. Солженицын «Крохотки» (1996-1999)
ЛИСТВЕННИЦА
Что
за диковинное дерево!
Сколько
видим её — хвойная, хвойная, да. Того и
разряду, значит? А, нет. Приступает осень,
рядом уходят лиственные в опад, почти
как гибнут. Тогда — по соболезности? не
покину вас! мои и без меня перестоят
покойно — осыпается и она. Да как дружно
осыпается и празднично — мельканием
солнечных искр.
Сказать,
что — сердцем, сердцевиной мягка? Опять
же нет: её древесная ткань — наинадёжная
в мире, и топор её не всякий возьмёт, и
для сплава неподымна, и покинутая в воде
— не гниёт, а крепится всё ближе к вечному
камню.
Ну,
а возвратится снова, всякий год как
внезапным даром, ласковое тепло, —
знать, ещё годочек нам отпущен, можно и
опять зазеленеть — и к своим вернуться
через шелковистые иголочки.
Ведь
— и люди такие есть.
УТРО
Что
происходит за ночь с нашей душой? В
недвижной онемелости твоего сна она
как бы получает волю, отдельно от этого
тела, пройти через некие чистые
пространства, освободиться ото всего
ничтожного, что налипало на ней или
морщило её в прошлый день, да даже и в
целые годы. И возвращается с первозданной
снежистой белизной. И распахивает тебе
необъятно покойное, ясное утреннее
состояние.
Как
думается в эти минуты! Кажется: сейчас
ты с какой-то нечаянной проницательностью
— что-то такое поймёшь, чего никогда...
чего...
Замираешь.
Будто в тебе вот-вот тронется в рост
нечто, какого ты в себе не изведывал, не
подозревал. Почти не дыша, призываешь
— тот светлый росток, ту верхушку белой
лилийки, которая вот сейчас выдвинется
из непротронутой глади вечной воды.
Благодательны
эти миги! Ты — выше самого себя. Ты что-то
несравненное можешь открыть, решить,
задумать — только бы не расколыхать,
только б не дать протревожить эту озёрную
гладь в тебе самом...
Но что-нибудь
вскоре непременно встряхивает, взламывает
чуткую ту натяжённость: иногда чужое
действие, слово, иногда твоя же мелкая
мысль. И - чародейство исчезло. Сразу —
нет той дивной бесколышности, нет того
озерка.
И
во весь день ты его уже не вернёшь никаким
усилием.
Да
и не во всякое утро.